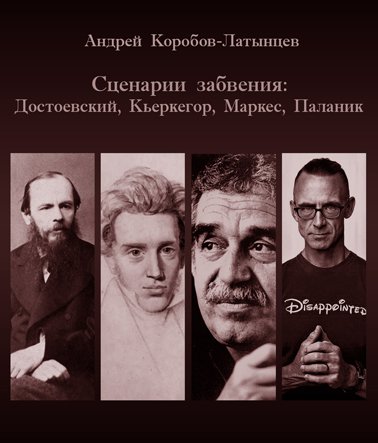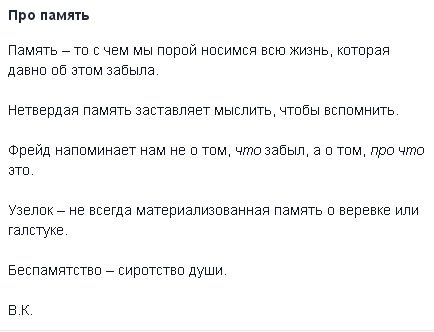Кэролловский тезис о том, что "все ценное было уже у Платона", видимо, утратит свою справедливость с полной утратой всего ценного. И чем тут приумножена концепция анамнезиса, хотя бы на пунктик? Но этим интересен и экскурс.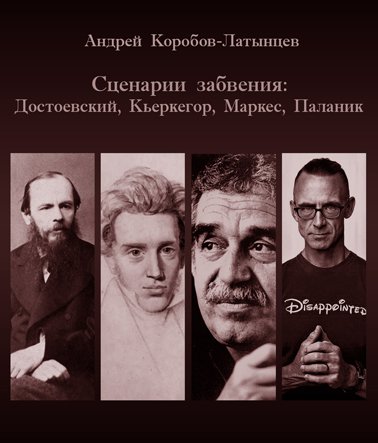
Культура держится памятью. Человеческое существо держится памятью. Память же сама держится на каких-то совершенно непонятных для человека основаниях. Какие могут быть основания у памяти? М.К. Мамардашвили указывал, что никаких физических оснований для памяти нет. Энтропия рано или поздно съедает все отпечатки, которые якобы есть та самая физическая организация нашей памяти. В действительности мы совсем не понимаем, что такое память и чем она держится. Мы любим, потому что помним, иначе мы не узнали мы свою любимую или друга в следующий момент. Мы живем, потому что помним, иначе проснувшись, мы не вспомнили бы ни своих вчерашних мыслей, ни своего имени, и застыли бы в ужасе перед своим отражением в зеркале. Когда Бердяев пишет, что память есть наше онтологическое сопротивление власти времени (1, 111) , он как раз это и имеет в виду. Без памяти время полностью бы нас «вылечило» и мы перестали бы быть людьми. Но мы помним. И это сущностное свойство человека. Человек существо помнящее. И в этом как раз вся трагедия его — в том, что он помнит — помнит боль, страдания, причем не только свои, но и чужие. «Что-то с памятью моею стало…». Иван Карамазов помнит страдания детей, хоть это и не его страдания, и ни одно забыть не желает, потому и мира не принимает Божьего.
Память накапливается с годами и давит. На нас давит предательство друга или любимой, и неважно, сколько времени прошло — это воспоминание может внезапно накатить болью по прошествии и десяти, и двадцати лет, когда уже все отпечатки где-то в коре головного мозга должны были совершенно стереться, как по неумолимым физическим законам стирается со временем барельеф на камне.
Бывают люди, которые до конца жизни не могут освободиться от груза памяти, которая, быть может, таит в себе всего только одно событие, которое никак невозможно осмыслить. Да и что дает осмысление? Предательство друга или любимой можно со временем осмыслить, объяснить его человеческой природой, но в голове любящего никогда не сможет уместиться тот факт, что любовь может быть предана, может забыться. Конечно, со временем сгладится рана от потери любимого сына, который погиб на войне. Конечно, время вылечит, т.е. заставит забыть, но факт останется фактом. Факт остается фактом, пусть даже все люди на планете разом забудут про него. По сути дела люди так и живут. В сущности, потому они только и могут жить, заводить семью, детей, строить дома, ходить каждый день на работу, — потому что могут забывать, потому что онтологическое сопротивление власти времени на каком-то моменте ослабевает и сдает позиции — и мы забываем: про замученных детей, про убитого любимого сына или про предательство друга или любимой. Без этого мы бы просто не смогли нормально жить.
Забвение, таким образом, переплетается в сложной диалектике с памятью как онтологическим сопротивлением времени. Иначе память раздавила бы нас.
Осмысление же памяти всегда фиктивно, оно ничего не дает. Это прекрасно раскрывает Маркес в своем романе «Сто лет одиночества», изображая историю как ряд бессмысленных и ни к чему не ведущих фактов, историю без замысла, без сюжета. Весь его роман строится как сплошная фабула. Бесконечные имена не запоминаются и в итоге путаются друг с другом, как и в реальной истории мы порой запутываемся в датах и именах. В романе нет героя, который запомнился бы своей уникальной диалектикой души. Только имена, которые идут рядом одно за другим. И действия, ряд которых уходит в дурную бесконечность. Фабула без сюжета.
История без сюжета, без смысла, без промысла. История человечества, к которой Бог равнодушен. В итоге эта история не выдерживает саму себя (3, 243). Груз памяти задавливает последнего человека, вместе с которым прекращается фабула-история. Маркес не видел героя, который мог бы что-то поделать с миром, оставленным Богом. Осмысление памяти всегда сводится к самому наличию памяти, оно ничего не дает. «Неизлечимая прустоболезнь», как говорил тот же Мераб Константинович.
Мы топчемся на одном месте, постоянно сознавая и сознавая, каждый раз заново, в мерцающем стремлении найти в своем осознании нечто такое, что остановит бесконечный ряд воспоминаний, придав им окончательный смысл. Но эта дурная бесконечность не останавливается, окончательный смысл не дается ни объяснением («друг предал, потому что…»), ни прощением, которое, как указывает Поль Рикер, заключается в умиротворении памяти, что «составляет, вероятно, последний этап на пути забвения» (4, 574).
Кто вылечит человека от этого проклятья? Над этим вопросом отчаянно бился Кьеркегор и говорил, что только Бог способен спасти человека от этого проклятья помнить. Кьеркегор вынужден был помнить, что он оставил Регину Ольсен, и простить он не мог, поскольку вся его философия вообще по ту сторону от прощения и забвения с одной стороны, и объяснения — с другой. Оно обращена к памяти, без которой не было бы никакого Кьеркегора вообще.
Ответ Кьеркегора на вопрос о смысле памяти — Бог. Это, конечно, более обнадеживает, чем та картина, которую нам рисует Маркес. Но в то же время ответ его предполагает страшную надежду, безумную, — ведь он надеется не просто на забвение, нет! — он надеется на то что за забвением факта последует и уничтожение самого этого факта, он из бывшего сделается небывшим (в данном случае философия Кьеркегора и по ту сторону смысла: вместе с памятью о событии и самим событием исчезает и вопрос о смысле, т.е. об объяснении или забвении-прощении). Такая безумная надежда, возможно, погубит еще быстрее, чем сама болезнь, которую эта надежда надеется излечить. По сути дела и Меркес, Кьеркегор, и Иван Карамазов находятся в одном пространстве, где Бог молчит. Но один абсурдно надеется на хэппи энд (Бог вернет ему Регину, бывшее сделает небывшим, и памяти, которая его убивала, просто не станет, как не станет и того, о чем эта память: Сократа не отравят, Ницше не сойдет с ума, самому Кьеркегору вернутся его невеста и т.д.), второй же пессимистично пророчествует о конце истории, в которой последний человек будет раздавлен грузом накопленной памяти и ничто не спасет его. Что касается Ивана Карамазова, то его желание «жить бунтом» приводит к краху и сумасшествию. Безумие есть плата человечества за его историю, писал Фуко (2, 576).
Но есть еще один сценарий, в котором также следует признать историософскую глубину. Сценарий этот представляет нам Чак Паланик в своем «Бойцовском клубе».
Если у Маркеса оставленная Богом история умирает вместе с человеком, если Иван Карамазов в своем бунте сходит с ума, если Кьеркегор умирает в своей безумной надежде на то что Бог вернет ему Регину, то Паланик предлагает иной вариант. «Мы хотим освободить мир от груза памяти» — говорит главный герой его книги, Тайлер Дердан. «Проект разгром спасет мир. Наступит ледниковый период для культуры. Искусственно вызванные темные века. Проект разгром вынудит человечество погрузиться в спячку и ограничить свои аппетиты на время, необходимое Земле для восстановления ресурсов» — вот что говорит Тайлер. Разрушение культуры, вместе с которой последует и устранение техногенных угроз. Отказ от памяти, забвение здесь, таким образом выступает как инструмент радикальной защиты человека от глобальной технической катастрофы и одновременно… метафизической отсрочкой от финала истории.
«По мнению Тайлера мы — нежелательные дети Бога. Для нас в истории не оставлено места. Если мы не привлечем внимания Бога к себе, то у нас нет надежд ни на вечное проклятие, ни на искупление грехов» (5, 124). Затея Тайлера, — привлечь к себе внимание молчащего Бога, а не просто спасти землю от экологической катастрофы.
Тайлер Дердан не так прост, и в его теории заключена целая историософия, в которой есть черты и Маркеса, и Кьеркегора, и Ивана Карамазова. С одной стороны, Тайлер видит оставленным Богом мир, он не чувствует на себе присматривающего взгляда Бога. И осмысливание памяти, понимание ее ничего не дает ему. Оттого и возникает его радикальный план отказаться от груза памяти вообще, разрушить цивилизацию.
С другой стороны нельзя не отметить сходства и с Иваном Карамазовым, который не может принять мир со страдающими детьми. Тайлер, можно сказать, особенно близок Ивану, хотя на первый взгляд это совсем не заметно. Тайлер точно так же тяготится памятью, как и Иван. Однако он, как кажется сперва, готов уже и забыть вовсе страдания детей. Но только лишь затем нужно ему это радикальное забвение, чтобы «привлечь к себе внимание Бога», без чего уже «у нас нет надежд ни на вечное проклятие, ни на искупление грехов». В этом просматривается Кьеркегоровская черта, просматривается уже теория повторения: Бог обратит внимание не человека, и тогда уже Он решит, что делать с памятью, и с забвением, и с самим человеком, натворившим такие дела. Во всяком случае это будет лучше, чем вариант бессмысленного конца истории, как у Маркеса, или чем перспектива оказаться в дурдоме, как Иван Карамазов. Тайлер, таким образом, «берет свои меры», предстает перед нами как метафизический бунтарь, как измученный, уставший человек, который решается на последний отчаянный шаг, и шаг этот либо возвращает человеку Бога, либо же готовит ему муки бесконечного забвения. Впрочем, и этому бунтарю суждено оказаться в дурдоме.
Библиографические ссылки
1.
Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Бердяев Н.А. Дух и реальность; вступ. ст.и сост. В.Н. Каралюжного. — М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2006 с. 111
2.
Фуко Мишель. Истрия безумия в классическую эпоху. СПб, 1997.с. 576
3.
Маркес Габриэль Гарсия. Сто лет одиночества. М.: «Локид», 1997 с. 243
4.
Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004, с. 574
5.
Чак Паланик. Бойцовский клуб. — М.: АСТ, 2009. с. 124
<!--dle_leech_begin-->[url=https://tovievich.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3N5Zy5tYS8%3D]источник[/url]<!--dle_leech_end-->
<!--dle_leech_begin-->[url=https://tovievich.ru/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3Z0a3VkP3NrPXdhbGw%3D]Fb Владимира Кудрявцева[/url]<!--dle_leech_end-->
На развитие сайта