
Коротенький "тоннель", соединвший Ясную Поляну с Астапово, прошел через весь огромный мир, который уже не мог оставаться прежним после того, как в нем прожил свои 82 года Лев Николаевич Толстой. . . Людмила Кожурина (спасибо ей!) прислала ссылку на блестящую статью своего коллеги Андрея Баландина о феномене ухода Толстого, опубликованную № 22 газеты "Первое сентября". Считаю необходимым перепостить ее на сайте.
Владимир Кудрявцев
Андрей Балдин
100 лет назад Лев Толстой ушел из Ясной Поляны и спустя несколько дней умер на станции Астапово. По новому календарю — 20 ноября. Неделю назад, в субботу. Очень важно это ощущение: событие произошло только что. Уход Толстого происходит сейчас. Сейчас все спорят о Толстом: верно или неверно он поступил, прав был или не прав, уходя из дома. Это великое достижение Толстого: остаться в центре внимания, в центре современного, живого и острого спора.
Сегодня этот спор звучит как-то сниженно, скандально-приземленно. Кто кого, Лев Николаевич или Софья Андреевна, как (это самое важное) решится вопрос с наследством?
Мы как будто подглядываем за ними. Таково наше нынешнее сейчас.
Мне пишет в интернете неведомая дама: Вы не объясните простым людям, что такое эта его философия, зато всем понятно, каково заниматься хозяйством. Бедная Софья Андреевна!
И это довольно распространенная точка зрения: Толстой виноват.
Наше время пишет новый астаповский миф, «Евангелие от Софьи», в котором, как в скверном сериале, все крутится вокруг денег. Разумеется, с этой точки зрения Толстой оказывается кругом виноват. Зачем он ушел? Жил бы дома, как все, у Христа за пазухой, оставил бы права на свои произведения детям, – нет, он отправился искать какого-то своего Христа, бросил яснополянский рай и убежал неведомо куда умирать на рельсах.
Невозможно объяснить, что он от этого как раз и убежал, от этого «как все» и «у Христа за пазухой».
За этим вздором и сплетнями – «кто кого, Лев или Софья?» – не видны другие, глубокие смыслы астаповского события, те, которые ясно различали его современники. Не за пазухой он жил, и Христа искал вне дома, оттого что стремился исправить себя как можно точнее согласно Евангелию, и не мог этого сделать дома, где слишком далеко зашел денежный вопрос.
Это первое, что отмечали сочувствующие ему наблюдатели. Толстой разыгрывает – проживает – евангельскую концовку жизни. Первая неделя его ухода определенно была «страстной»; она хорошо раскладывается по дням – от «Лазарева возмущения» ночью в Ясной до «распятия» в Астапове. С Толстым совершилось нечто похожее на то, что совершилось с Христом.
Не осознав этого сходства, невозможно представить, какое впечатление произвела смерть Толстого на верующих и даже не верующих в него людей. Многие плакали, не принимая известия о его смерти. Это сейчас для нас звучит отстраненно и «плоско», почти под гармошку: «Умер великий писатель». Тогда для трети населения России «умер Христос», или тот, кто ближе всего к Христу, ближе двенадцати апостолов. Это означало сокрушение веры, отмену исходного сюжета бытия, апокалиптическое обнуление времени. То, что последовало за уходом Толстого как околохристовым событием, война и революция, и новая, гражданская война, было прямо связано с этим посттолстовским обнулением времени, отменой нравственного закона, который, как оказалось, имел силу только пока был жив Толстой.
Мы не различаем сегодня этой связи, не видим евангельского подобия – в высшей степени противоречивого, этого опасного похоже на то. Мы не сознаем, в частности, как важно было для всех участников астаповской драмы распределение ролей в сюжете «Русского Евангелия». Его, а не просто дневник писал доктор Маковицкий. Писал начерно, вслепую, в кармане пиджака (Толстой очень не любил, когда за ним ходили и записывали его слова), и потом еще переписывал, ясно сознавая масштаб совершающегося события. Он был «Матфеем».
Кем была в этой пьесе Софья Андреевна? В последние годы она настойчиво, в каждой записи, в каждом разговоре исправляла свой образ безмолвной жены гения – тем более «Ксантиппы», сварливой жены философа. Это прозвище сводило ее с ума; кстати, многие ее не шутя считали безумной или серьезно больной, в том числе дети, о чем, наверное, забывают нынешние ее «болельщицы». Софья Андреевна в своих дневниках настойчиво редактировала свою жизнь. Чем далее, тем больше в ее описаниях Толстой превращался в ребенка – ее ребенка, самого старшего и самого трудного из всех. Так незаметно для себя самой она в «христовой» пьесе, которую наблюдал тогда весь мир, переходила в статус «богоматери», и нужно внимательно следить за настроениями той «богостроительной» эпохи, чтобы понять, насколько серьезно это сравнение. Нет, не только имущественный вопрос тогда решался. Тогда заново расставлялись иконы в русском гражданском «храме». Было ясно, что после ухода – тем более такого, «страстного», – фигура Толстого приобретет новое, по сути религиозное значение (оттого так важно было каждое обстоятельство – как он умрет, «не явится ли за ним Христос?»). И положение каждого из близких ему людей в будущем определится ролью в ныне происходящей «евангельской» пьесе.
С нашим нынешним копеечным подходом, нелепыми гендерными критериями этих смыслов не различить. Стало быть, не понять скрытых мотивов участников события.
Мы вообще плохо разбираем, как, когда и где совершалось это событие. Уход Толстого – удивительное дело – до сих пор толком не картографирован (и оттого тем легче он транслируется в миф). Для нас, читающих о нем и не видящих его, Толстой как будто ехал в тоннеле метро: шагнул в него в Ясной – и вышел в Астапове.
Нет, вспоминают немногие, – были еще станции по ходу движения, была Оптина пустынь и еще один монастырь, Шамордино, где жила его сестра-монахиня. Но все это поспешный и скорый пунктир, неведомо где проложенный, главное — вход и выход в «тоннель» Ясная Поляна – Астапово. Между тем карта может многое сообщить о деталях состоявшейся драмы.
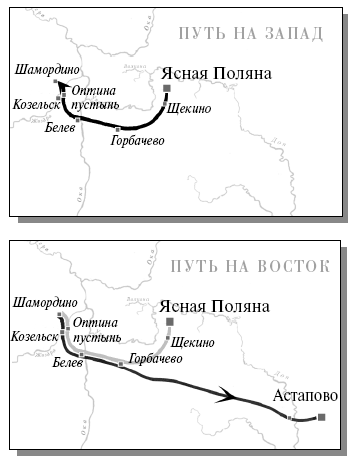
Толстой как будто раскачивается на конце маятника. Сначала бежит на запад, через Оптину пустынь в Шамордино к сестре Марии Николаевне, и как будто собирается у нее остаться, но изменяются обстоятельства, в Шамордино приезжает дочь Александра, привозит новости из дома, из которых следует, что будто бы вот-вот за ним явится семейная погоня, – и Толстой бросается в обратную сторону, на восток. Стремительно, почти не разбирая дороги. В этом последнем броске, который размашисто пересекает карту Тульской губернии по горизонтали, он и достигает Астапова.
Да, второе его движение очень похоже на движение в темном тоннеле. Но что такое первое движение толстовского маятника, его поход на запад, к сестре? Оно не было так безнадежно-стремительно, более того, оно было тщательно рассчитано, его стоит рассмотреть внимательно. В нем сказываются иные «сакральные» мотивы, также нам непонятные и неблизкие, но существенно важные для самого Толстого.
Это мотивы Толстого-ребенка.
Под внешней оболочкой Толстого до последнего дня оставался жив мальчик восьми лет, сирота, потерявший родителей. Тут, кстати, права Софья Андреевна, записывая себя в матери Толстому: так в известном смысле оно и было, так и случилось в ночь его ухода – это был «детский» бунт, в котором обида на «мать» Софью сыграла роковую роль.
Из дома убежал ребенок – демонстративно, напоказ матери. Его страшила тьма за окнами, и «мальчик» Толстой как будто сомневался: он собирался в дорогу несколько часов, при том что знал, что Софья Андреевна каждые два часа выходила проверять, в каком он состоянии (в те дни Толстой был простужен и температурил). И вот несколько часов этот взрослый ребенок, зажегши свет во всем доме, ходил, собирался, когда все было собрано, писал записку «матери», когда она давно была составлена, и как будто ждал ее прихода, в то время как «мать» в соседней комнате тоже не спала, лежала и терпела, когда у «ребенка» пройдет эта блажь. Ужасный стариковский сюжет «кто кого?» – и он не менее важен, чем все эти денежные дрязги, которые сегодня одни нас интересуют.
Он все-таки убежал, так что потерял в кустах шапку и потом еще долго искал ее с фонариком: включал и тут же выключал, чтобы экономить энергию, и конечно, не нашел. И после еще сидел в кучерской избе, точно разом лишившись сил; руки тряслись, взор плавал: по-прежнему он ждал, ждал неизвестно чего.
И дальше можно проследить его «детский» маршрут на запад, с вопросами «куда поедем?», с мальчишкой на станции в Горбачеве, которого Толстой хотел взять с собой, потому что одному было бежать страшно (верный спутник «Матфей» Маковицкий не бежал вместе с ним, а следовал рядом, наблюдал за его здоровьем). Ничего удивительного – Толстой ехал к сестре, которая одна во всем свете помнила их общее детство.
На запад он бежал в детство, «против времени», от смерти. Таково было первое его движение. На восток он бросился прямо в смерть.
Но мы не видим этого, не различаем простого сообщения карты. Мы только перебираем сплетни, судим вслепую, налагая на него и его «непонятные» действия одну примитивную сетку (кто кого?), применяя те нехитрые критерии, согласно которым сегодня живем. «Старик выжил из ума – с кем не бывает? – и написал неправильное завещание». Только и всего.
Кто мы, что такое мы сейчас, если так судим Толстого? Мы прячемся от него, «упаковываем» его, чтобы не заметить существенной актуальности его возвращения. А ведь он возвращается – из того 10-го в наш 10-й год. Наш сегодняшний спор о нем никак не случаен.
На развитие сайта